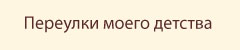Денисьева Елена АлександровнаВ двух случаях из трёх семейная жизнь Тютчева была трагедией и один раз – драмой. Елена Александровна Денисьева (1826-1864) – одна из трагедией. Содержание: Роковая встреча • Не ищите ангелов в аду • Конец треугольника • "Дети подземелья" • Денисьевский цикл Тютчева Роковая встречаОсенью 1845 г. Фёдор Иванович устроил дочерей Дарью и Екатерину в Смольный институт. Несмотря на высокое покровительство, они были пенсионерками императорской семьи, Фёдор Иванович посчитал полезным познакомиться и поддерживать хорошие отношения с инспектрисой Анной Дмитриевной Денисьевой, от которой многое зависело в судьбе учащихся. У Анны Дмитриевны жила племянница Елена Денисьева, бывшая вольнослушательницей Смольного института. Сохранился словесный портрет Елены той поры: "...природа одарила её большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной весёлости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников". Посещая инспектрису, он не мог не обратить внимания на её племянницу. Встречи могли происходить и на "нейтральной" территории, поскольку Елена часто посещала своих подруг вне стен института. Всё произошло как в сказке, где "жалкий чародей" околдовал юную красавицу. Елена не просто влюбилась, она бросилась в омут с головой, забыв обо всём. "Тайный брак" с Денисьевой был заключен в июле 1850 г. Тогда его жена Эрнестина, ещё не подозревая о постигшем её семью несчастьи, писала П.А. Вяземскому, что Фёдор Иванович "нанял себе комнату возле Вокзала и несколько раз оставался там ночевать". Это подтвердилось в стихотворении, написанном через 15 лет после события и через год после смерти Денисьевой "Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло". Тайна была великая: почти сорок лет стихотворение хранилось в архиве Георгиевских, и было опубликовано через тридцать лет после смерти поэта под заголовком "15-го июля 1865 г." Знала ли Елена, в какую пропасть шагнула? Едва ли. Внешне все выглядело, как мелкая интрижка, на которую свет готов был смотреть снисходительно. Однако снятая для Денисьевой квартира находилась недалеко от Смольного, и о встречах "молодых" стало известно в институте. Тучи начали сгущаться. В марте 1851 г. должен был состояться торжественный выпуск класса, который вела Анна Дмитриевна Денисьева, тетушка Елены, более того, в этом классе учились ещё две племянницы Анны Дмитриевны. Разразилась гроза:
Уже в 1851 г. Фёдор Иванович "подвёл" итоги в стихотворении "О, как убийственно мы любим". Своих привычек он не изменил и большую часть времени проводил в свете. Его "подвигов" не одобряли, но и общения с ним не прерывали. Оставшееся время он делил между двумя семьями, стараясь чаще бывать там, где меньше было проблем. В мае 1851 г. у Денисьевой родилась девочка, которую в честь матери назвали Еленой. По настоянию матери её записали на фамилию отца. Мать была счастлива, не понимая, что это подчеркнёт "незаконное" происхождение дочери и окажется для неё роковым. Не ищите ангелов в адуКогда появляется ребёнок, то появляется и семья. Для Денисьевой это было очевидно. Но другие так не считали. Такая раздвоенность привела её к трагическим последствиям. Елена пребывала в странной иллюзии. Она писала: "я более ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю... я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой..." Удивительные слова, если учесть, что у Фёдора Ивановича в это время была законная семья, любящая и преданная жена и взрослые дочери, проявлявшие почти материнскую заботу о легкомысленном папе. О душевном состоянии Денисьевой муж её сестры и, чуть ли не единственный друг Денисьевой, Александр Иванович Георгиевский писал: "Глубоко любящая и глубоко религиозная... Леля не раз беседовала со своим духовником, и не с одним, до какой степени ей тяжело обходиться без церковного благословения брака; но что она состоит в браке, что она настоящая Тютчева, в этом она была твёрдо убеждена, и, по-видимому, никто из её духовников не разубеждал её в этом по тем же, вероятно, побуждениям, как и я, т.е. из глубокой к ней жалости". Насчет жалости Георгиевский написал, видимо, не всю правду. Он знал, что попытка разубеждения могла привести к истерике, небезопасной для окружающих. В другом письме Георгиевский написал о споре Елены и Фёдора Ивановича по поводу рождения третьего ребенка: "Перед рождением третьего ребенка Феодор Иванович пробовал было отклонить Лелю от этого; но она, эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Леля пришла в такое неистовство, что схватила с письменного стола первую, попавшуюся ей под руки бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила её в Феодора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца: раскаянию, слезам и рыданиям Лели после того не было конца. Мне случилось быть на другой или на третий день после того у Лели, изразец этот не был ещё починен и был показан мне Феодором Ивановичем, причем он вполголоса обещал мне рассказать историю этого изъяна в печке, когда мы будем с ним вдвоём на возвратном пути. Очевидно, что шутки с Лелей были плохие, и Тютчев вполне одобрил, что я и не пробовал опровергать её теории об истинном её с ним браке: Бог весть, чем подобная попытка могла бы окончиться... Меня этот рассказ привёл в ужас: в здравом уме и твердой памяти едва ли возможны такие насильственные поступки, и я никак бы не ожидал ничего подобного от такой милой, доброй, образованной, изящной и высококультурной женщины, как Леля..." Приступы неистовства не были редкостью. Федор Иванович писал Георгиевскому в декабре 1865 г.: "Я помню, раз как-то, в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своём, чтобы я серьёзно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что так отрадно было бы для неё, если бы во главе этого издания стояло её имя – не имя, которого она не любила, но она. ...я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с её стороны подобное требование не совсем великодушно, что, зная, до какой степени я весь её, ей нечего, незачем было желать ещё других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали её жизнь и довели нас – её до Волкова поля, а меня – до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке..." На самом деле, Фёдор Иванович Елене не принадлежал. Он не принадлежал никому. В том числе, и самому себе. Ей же полностью принадлежали проблемы: заботы о маленькой дочери, о самом Фёдоре Ивановиче, который требовал забот не меньше ребенка, нехватка денег, отторжение общества. Последние годы жизни были для Елены Александровны тяжёлыми. Силы иссякали, давала о себе знать чахотка. Письма к сестре Марии и её мужу А.И. Георгиевскому полны жалобами на преследовавшие её несчастья:
Выдержки из писем – крик запутавшегося человека, они вызывают сочувствие и жалость. Елена отдаёт все силы, чтобы поддержать семью. Но сил уже немного, и помощи ждать неоткуда. Рождение третьего ребенка в мае 1864 г. обострило течение чахотки. Состояние Елены резко ухудшилось. Помните, Фёдор Иванович пытался отговорить её от этого шага. Конец треугольникаВ последнюю зиму 1863/64 гг. Лелю не отпускали болезни. Она практически оказалась брошенной на произвол судьбы. В Петербург вернулась семья Фёдора Ивановича, и он предпочитал отсыпаться там, набираясь сил перед очередным светским развлечением. Его зима была заполнена балами, визитами, обедами... Похоже, что всех утомил "любовный треугольник", углы которого торчали 14 лет. До развязки оставались два месяца. В письме от 5 июня 1864 г., последнем из дошедших до нас, Елена написала: "Я встала, но поправляюсь с большим трудом". В эти дни Фёдор Иванович делал все возможное, чтобы помочь Елене, но было поздно. То, что люди не могли или не хотели исправить, застыв в каком-то страшном оцепенении, разрешилось само. 4 августа 1864 г. Леля скончалась на руках у Фёдора Ивановича. И здесь вспоминается стихотворное обращение к Эрнестине, написанное ещё в 1837 г. Оно могло быть адресовано любой из трёх женщин, рискнувших связать с ним свою судьбу:
Елену Александровну похоронили на Волковом кладбище в Петербурге. "Дети подземелья"У Денисьевой и Фёдора Ивановича было трое детей:
Денисьевский цикл ТютчеваПосле смерти Е.А. Денисьевой десятки лет мемуаристы, биографы и другие пишущие люди избегали упоминания её имени. Причина была в том, что дочери Фёдора Ивановича занимали высокое положение при императорском дворе, и обсуждение папиных приключений им было ни к чему. Возможно, поэтому русского подобия "Дамы с камелиями" или "Травиаты" не получилось. А жаль:
Впрочем, написание трагедии не состоялось. Состоялся только "Денисьевский цикл" стихотворений. Этот цикл долгое время вёл незаметное существование. Многие стихи хранились в архивах, посвящения скрывались, комментарии отсутствовали. Стихотворение Тютчева "О, как убийственно мы любим", написанное в 1851 г., – "итог" его отношений с Еленой Денисьевой:
Стихотворение "О, как убийственно мы любим" читает: Михаил Козаков ► Стихотворение "Чему молилась ты с любовью" написано в 1851 г.
Стихотворение "Чему молилась ты с любовью" читает: Михаил Козаков ► Стихотворение "Последняя любовь" написано между 1852-1854 гг.
Стихотворение "Последняя любовь" читает: Михаил Козаков ► Стихотворение "Весь день она лежала в забытьи" написано в октябре-декабре 1864 г. в связи со смертью Елены Денисьевой.
После похорон, 8 августа 1864 г., Тютчев написал Георгиевскому: "Всё кончено – вчера мы её хоронили... Что это такое? Что случилось? О чём это я вам пишу – не знаю... Во мне всё убито: мысль, чувство, память, всё... Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти – не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то... Сердце пусто – мозг изнеможён. Даже вспомнить о ней – вызвать её, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу". Стихотворение "Весь день она лежала в забытьи" читает: Михаил Козаков ► Стихотворение "Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло" написано 15 июля 1865 г. В первой строфе имеется в виду "тайный брак", заключённый с Еленой Денисьевой в июле 1850 г. Во второй – её смерть 4 августа 1864 г.
Стихотворение "Накануне годовщины 4 августа 1864 г." написано 3 августа 1865 г.
Стихотворение "Накануне годовщины 4 августа 1864" читает: Михаил Козаков ► Вообще, стихотворения, посвящённые женщинам, которые остались от Тютчева в некотором отдалении, отличаются от стихов, которые адресованы его жёнам. Посвящения Амалии Крюденер и Клотильде Ботмер – грациозные стихотворения-элегии. Они оставляют ощущение света, грусти, лёгкости. Стихи "Денисьевского цикла" – на другом полюсе. После них остается чувство подавленности. Елена Денисьева пожертвовала жизнью ради любви. И невольно возникают вопросы, на которые ответа, по-видимому, нет. Что это было? Безумие... легкомыслие... Как человек впал в этот разрушительный кошмарный сон? Где граница, перейдя которую человек распоряжается не только своей судьбой, а судьбами, и даже жизнями других людей? И совместим ли этот переход с любовью? |
|
© Моя Москва, 2004-2025
|
|
Почта: info@mmsk.ru |